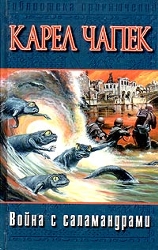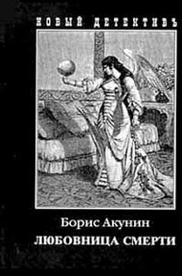Минирецензии на художественные книги
Борис Акунин. "Любовник смерти" (2001г.)
У этого детектива из цикла про Эраста Фандорина крайне длинное вступление — автор очень подробно описывает жизненный путь мальца Сеньки Скорика, используя язык и выражения присущие бандитскому окружению Сеньки. Эраст Фандорин, как и в "Любовнице смерти", появляется лишь к середине романа, что странно для произведения, где главное действующее лицо именно Фандорин. Уже в третий раз автор использует прием описания событий глазами одного из участников этих событий (в данном случае - Сеньки), который плохо ориентируется в происходящем, а разгадывающий очередную головоломку Фандорин присутствует в романе лишь эпизодически, выходя на авансцену только в последней трети произведения. Что воспринималось свежо в "Коронации", в этом романе уже изрядно раздражает. Впрочем, такой прием был излишен уже и в предыдущей серии "фандориады" — "Любовнице смерти", где Чхартишвили-Акунину захотелось представить себя в женском образе и рассказать о совершаемых преступлениях глазами одной крайне странной девицы.
Джеймс Фенимор Купер. "Последний из могикан" (1826)
Приключенческий роман исключительно для подростков. Много слов главных действующих лиц — даже в тех случаях, когда беседы абсолютно неуместны (герои гребут на каноэ, удирая от злых индейцев, и при этом говорят и говорят), еще больше благородных поступков героев с соответствующими приторными излияниями, чрезмерное количество глупых индейцев, нарисованных при этом в героических тонах, и при этом очень мало смысла в целом. Сюжет для компьютерной "стрелялки" вполне подходящ, но для художественной литературы примитивен.
Карел Чапек. "Война с саламандрами" (1936)
Поначалу не очень увлекательный фантастический роман, с действием скачущим во времени из одной географической точки в другую, к третьей части превращается в книгу, от которой трудно оторваться. Чапек высмеял политиков, бизнесменов, ученых и прочих деятелей, которые из-за своей глупости и жадности угробили все человечество. Предсказание Чапека о невозможности людей объединиться даже перед лицом смертельной опасности (в данном случае — саламандр), подтвердилось буквально через пару лет — только в реальной жизни вместо саламандр против всего мира выступили немцы. Европейцы капитулировали перед вождем Третьего рейха (как и люди в книге Чапека перед требованиями Верховного саламандра), не сумев объединиться и совместными усилиями предотвратить гибель миллионов людей.
Исаак Бабель. "Конармия" (1926) и "Конармейский дневник" (1920 года)
Цикл рассказов и зарисовок Бабеля, объединенных темой Первой конной армии Буденного, которая ведет бои с поляками и разоряет мирное население, произвел на меня меньшее впечатление, чем его дневник, который был всего лишь вспомогательным материалом для написания "Конармии". Свои короткие произведения Бабель писал весьма своеобразно, удачно вкрапляя в текст поэтические метафоры, которые, впрочем, отнюдь не превратили его рассказы в шедевр русской литературы. Рассказы больше поражают своей документальной основой, но по сравнению с реально документальным "дневником" писателя они все равно проигрывают из-за маскировки исторической правды литературными изысками.
Антон Чехов. Повести. "Огни" (1887), "Скучная история" (1889), "Дуэль" (1891), "Палата № 6" (1892), "Рассказ неизвестного человека" (1893)
Повести собранные в этом сборнике дают наглядное представление о том, почему Антона Чехова считают выдающимся русским писателем. Чехов не написал за свою более чем двадцатилетнюю литературную деятельность ни одного романа и эти повести — его самые крупные произведения. Но зачем нужен роман, если Чехову удавалось описать все, что он хотел, в небольших повестях? Чехова часто упрекали за то, что в его произведениях нет морали, авторская точка зрения на тот или иной вопрос неясна. И действительно, Чехов не учит никого жить. Он лишь описывает некую жизненную ситуацию (великолепно описывает!) и оставляет читателю возможность самому разобраться и сделать из нее необходимые выводы. И подумать есть над чем. В этой книге мне больше всего понравились повести "Дуэль" (кстати, хорошо экранизированная И.Хейфицем — фильм "Плохой хороший человек") и "Палата № 6".
Александр Грибоедов. "Горе от ума" (1825)
Комедия-пьеса в стихах "Горе от ума" вышла чуть ранее "Евгения Онегина", но смотрится на его фоне гораздо лучше — это великолепное произведение актуально и поныне — через 200 лет после опубликования! Плохо то, что кроме "Горя" Грибоедов так и не успел ничего написать, поскольку погиб в Тегеране в 1829 году.
Франц Кафка. Рассказ "Как строилась Китайская стена" (1917) и письма к Фелиции.
Эта книга содержит лишь небольшой рассказ Кафки вроде бы о Китае, о Великой стене, о китайском народе и императоре, а, по сути, — ни о чем. Очень странно давать книге название рассказа, поскольку он занимает только одну десятую всего объема книги, а все остальное — это личная переписка Франца Кафки со своей возлюбленной. Поначалу ощущаешь себя обманутым — под видом художественного произведения тебе подсунули какую-то переписку, но потом понимаешь, что письма влюбленного Кафки более интересны, чем его произведения, большая часть из которых так и осталась незаконченной (разложенной по конвертам для будущего "собирания"). Переписка Кафки напоминает ненаписанную повесть Достоевского — по стилю чем-то похожа на "Записки из подполья", но гораздо более содержательна и интересна. Если рассматривать письма Кафки как законченное произведение, то это печальный роман о платонической любви, где влюбленные разделены не просто расстоянием, а, прежде всего, жуткими комплексами одного из влюбленных — разумеется, Кафки. Любовь Кафки к Фелиции — хороший пример "горя от ума": иногда слишком много думать вредно. Роман в письмах раскрывает нам не только патологические чувства Франца к возлюбленной, но и позволяет узнать о самом Кафке как человеке (в письмах он очень откровенен), его семье, о том как он писал, его бесконечных болезнях... Девушкам полезно прочитать письма Кафки, чтобы было с чем сравнивать опусы приходящие им по электронной почте от возлюбленных.
Пауло Коэльо "Алхимик" (1988)
Как могла страна, давшая миру Гоголя, Чехова и Пелевина подсесть на Коэльо? Ответ, в общем-то, прост — в стране, где самой читающей группой населения являются охранники, Коэльо просто не мог не стать популярным. "Алхимика" - самую известную в мире книгу на португальском языке за всю историю (тираж 40 млн.экземпляров!) шедевром литературы точно не назовешь: повесть достаточно простая — как по сюжету (кстати, заимствованному), так и по языку, - и явно рассчитана на массового читателя — тоже в большинстве своем весьма простого. Ищи свой Путь, иди по нему следуя Знакам и найдешь Сокровище — домохозяйкам и охранникам такая немудреная идея безусловно понятна и близка: она будит уже истлевшие подростковые мечты, и заставляет после прочтения книги идти делать то же самое, что и до того, как впервые взяли ее в руки — иными словами, не менять ничего в своей жизни. Но помечтать о своем особом Пути после прочтения может каждый!
Ладно бы, если под "сокровищем" в книге понимался смысл жизни — у Коэльо же все настолько примитивно, что под сокровищем понимается действительно сундук с драгоценностями - в конце книги остаешься сильно удивленным такому повороту сюжета (а точнее его отсутствию). По-хорошему книжку стоило бы закончить страниц за двадцать до конца — так в произведении был бы хоть какой-то смысл. Но чем проще — тем тираж больше. Вот только зачем же там вообще появляется потусторонний Алхимик — к чему эта мистическо-религиозная дребедень, если дело только в бабках?
Александр Грин. "Алые паруса" (1923)
А.Грин — сказочник с романтическим уклоном. Повесть "Алые паруса" — сказка для девушек, и сказка чрезвычайно вредная. В основе начала любви не совсем нормальной Ассоль и странного Грэя лежит обман и когда он раскроется, то ячейка общества развалится с той же скоростью, как и образовалась. А может, семья и вовсе не возникла в "парусах": конец повести неочевиден и "роман" мог вполне закончиться сообразно морским обычаям — "поматросил и бросил" девку (правда с такой трактовкой завершения классической повести женщины точно не согласятся, хотя она была бы весьма логичной). Среди остальных произведений в этом сборнике тоже много романтических историй, хотя и менее сказочных, чем "Алые паруса", но заканчивающихся точно так же — по голливудски. Некоторые рассказы поистине ни о чем, а есть и такие, которые написаны так, как будто автор потерял способность внятно излагать мысли на русском языке.
Иван Бунин. "Жизнь Арсеньева" (1930)
"Помню, помню, помню я, как меня мать любила.." - вот в том же стиле написана и книга Бунина, все 350 страниц. Хотя почти автобиографическая проза Бунина написана на хорошем русском литературном языке, она читается тяжеловато из-за своеобразной многословной манеры Бунина вспоминать о минувшем (от лица своего вымышленного персонажа Арсеньева) с упором на свои впечатления от чего-либо, когда рассказ о каких-либо событиях или чьих-то действиях остается на втором плане. Вот Арсеньев стоит в церкви — там ничего не происходит, но у Бунина этому "ничему" посвящено пару страниц! Герой наслаждается окружающей природой — опять тщательное и многословное описание того, что видел и чувствовал герой, созерцая видимую картину мира. Раздражает бунинская тоска по утраченной России — не той страны, которая была в реальности, а той дворянской России Бунина-Арсеньева, которая, разумеется, резко отличалась от остальной страны, в которой проживало более 90 % населения.
В сущности, книга написана Буниным для себя — она получилась похожей на личный дневник, где зафиксированы личные впечатления и переживания. В книгах для читателей описание чего-либо преследует цель рассказать о чем-то другим людям — здесь же текст записывался для того, чтобы не забыть самому.
Аркадий и Борис Стругацкие. "Полдень. 22 век" (1961)
Ранние Стругацкие несколько раздражают своей исторической наивностью, видимо вызванной представлениями о грядущем построении в СССР коммунистического общества, распространении коммунизма на всю планету и кардинальном улучшении человеческой природы - все люди после этого станут хорошими и еще лучше. Эта наивная вера в грядущий прогресс очень хорошо заметна в "Полдне". Авторы даже не потрудились изменить название города Свердловска на какое-нибудь выдуманное, свято веря, что и через 200 лет такой город будет существовать. Сама повесть получилась распадающейся на отдельные главы — связного повествования в ней нет - это своего рода новеллы о грядущем земном и космическом будущем, иногда объединенные одними и теми же героями. Люди будущего летают к звездам, но на Земле используют вертолеты и кинокамеры, посылают радиограммы на другой континент и почему-то не используют и-мэйл и скайп... Странное будущее получилось у Стругацких.
Аркадий и Борис Стругацкие. "Далекая Радуга" (1963)
А вот повесть "Далекая Радуга" уже совсем иная — если первая половина ее похожа на "Полдень" (много заумных диалогов "хороших людей" с выдуманными терминами, непонятными читателю, разговоров о физиках и лириках), то вторая — это уже совсем иная фантастика: "хорошие люди" Стругацких в ходе очередного эксперимента просто-напросто угробили планету Радугу и почти всю человеческую колонию на ней (на такой сюжет Стругацких натолкнул американский фильм С.Крамера "На берегу" о последних днях человечества после ядерной катастрофы на Земле).
Завершается повесть мрачным финалом в духе недавнего фильма "Знамение" с Николасом Кейджем: на планете только один звездолет и могут разместиться в нем лишь несколько человек, а оставшихся ждет почти то же самое, что и землян в "Знамении". На основе этой повести можно было бы снять очень хорошее кино и странно, что в нашу эпоху компьютерных спецэффектов про нее как-то подзабыли.
Гастон Леру. "Тайна желтой комнаты" (1907)
Замечательный детективный роман, от которого трудно оторваться при чтении. Не уступает классике жанра: произведениям Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. И хотя сам читатель никогда не догадается до самого конца романа, кто же преступник и разгадка преступления в "желтой комнате", выложенная на блюдечке автором в самом конце романа, может несколько удивить читателя - это не раздражает, в отличие от схожего приема в романах Агаты Кристи, которая любила преподнести сюрпризы в конце своих произведений.
Гастон Леру. "Заколдованное кресло" (1909)
Книга читается на одном дыхании - Гастон Леру умел мастерски погружать читателя в мир своих произведений и мог поддерживать читательский интерес к происходящему до самых последних страниц. В этом детективном романе нет сыщика — никто не расследует те преступления (или не преступления?), которые совершены — никто, кроме читателя. Если в большинстве романов читатель вынужден идти за детективом (полицейским или сыщиком-любителем), который раскроет преступление и преподнесет "результат" на блюдечке, то здесь читателю нужно во всем разбираться самому. И результаты расследования могут быть весьма неоднозначными....
Александр Солженицын. "Один день Ивана Денисовича" и "Матренин двор" (1959)
"Один день Ивана Денисовича" из этого сборника рассказов — замечательная вещь и безусловная классика русской литературы. А вот "Матренин двор" мне понравился меньше - уж больно мрачноват Солженицын в этом рассказе. Человеческая жизнь обычно похожа на раскраску зебры — почти у всех состоит из светлых и темных полос (автору ли не знать этого!), но "Матрена" у писателя изображена совсем без светлых. Жизнь каждого человека можно описать как трагедию — в этом был мастером телеведущий Виталий Вульф, но в реальности большая часть людей просто живет и даже не подозревает, что их жизнь — полный мрак, а закончится все еще хуже.
Язык Солженицына явно не принадлежит классической русской литературе, но если в "Иване Денисовиче" своеобразный стиль автора выглядит естественно (заключенный описывает жизнь таких же зэков как он сам), то в "Матренином дворе" стиль письма Солженицына временами раздражает при чтении — учитель пишет о Матрене языком деревенской женщины ("Но что-то начинало уже страгиваться", "Ходикам матрениным было двадцать семь лет как куплены в сельпо"; "Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей"; "Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама" и т.п.).
Артур Конан Дойл. Повесть "Этюд в багровых тонах" (1887)
Первая повесть Конан Дойла про сыщика Шерлока Холмса и его компаньона доктора Ватсона получилась неровной — великолепная первая часть, повествующая о расследовании преступлений, совершенных в Лондоне Джефферсоном Хоупом, который мстил за смерть своей невесты двум мормонам, сменилась второй частью, где действие из Лондона перенеслось в Юту на 30 лет назад и автор весьма подробно рассказал историю, которая в конце-концов привела к двойному убийству. Это отступление в прошлое разрушило динамизм повествования и не пошло повести на пользу. Драматизма прибавилось, симпатии к преступнику у читателя, безусловно, возникли, но как детективное произведение повесть получилась распадающейся на две плохо склеивающиеся части.
Артур Конан Дойл. "Знак четырех" (1890)
Во второй повести про Холмса и Ватсона Конан Дойл избежал ошибки, допущенной им в первой — расследование убийства и похищения сокровищ Агры завершилось поимкой преступника и плавно перешло в его рассказ о своей жизни и тех обстоятельствах, которые привели к преступлению. Произведение по праву относится к классике детективного жанра. Перевод М.Литвиновой очень хорошо читается и по стилю ничем существенным не отличается от перевода "Этюда в багровых тонах" Н.Триневой, поэтому при чтении не возникает ощущения, что читаешь не Конан Дойля, а другого автора.
Марк Твен. "Приключения Тома Сойера" (1876)
Книга о детях адресованная той же аудитории будет небезынтересна и взрослым. Марк Твен — выдающийся юморист и даже в повести для маленьких читателей он не мог удержаться от шуток по самым разным вопросам, большая часть из которых вряд ли будет понятна детишкам. А уж его описание Бекки Тэчер — подружки Тома Сойера — это, наверное, один из лучших женских портретов в художественной литературе (Бекки у него отнюдь не десятилетняя девочка).
Марк Твен. "Приключения Гекльберри Финна" (1884, перевод под редакцией К.Чуковского)
Эту книгу было бы правильнее назвать "Мемуары Г.Финна", поскольку главный герой рассказывает о себе и своих приключениях от первого лица. Гек был мальчишка простой и излагает свою историю тоже весьма незамысловато: я пошел туда, плыл, плыл и доплыл, - и все в подобном духе. Возможно, что все дело в переводе, а на английском текст воспринимается лучше.
Тем ни менее, каков бы ни был перевод, но сами по себе приключения Гека Финна попросту неинтересны, а под конец они превращаются в настоящую клинику — когда к ним присоединяется Том Сойер. Насколько была хороша первая книга про Тома Сойера — настолько же плоха эта. Когда я прочел в Википедии высказывание Хэмингуэя, что "вся американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется "Приключения Гекльберри Финна", то был немало удивлен — то ли Хэмингуэй это сказал с перепою, перепутав произведения Твена, то ли американская литература действительно настолько ужасна, что ее можно сравнить лишь с этой крайне неудачной книгой Марка Твена. Особенно мне обидно за Тома Сойера — безобидный фантазер и озорник Том, который рос, в общем и целом, правильным мальчиком (помните как он спас невиновного от виселицы?) превратился в этой книге в отмороженного недоумка, у которого крыша поехала от тех многочисленных приключенческих книг, которые он прочитал.
Аркадий Аверченко. "Московское гостеприимство". Сборник рассказов
Неплохая подборка рассказов классика русского юмора. Из почти пяти десятков рассказов мне больше всего понравились три: "Святые души", "Мой ученик", "Умение держать себя в обществе и на званом обеде".
Гилберт Кит Честертон. "Тайна отца Брауна" Сборник рассказов.
Сюжетная схема большинства рассказов об отце Брауне строится по той же схеме, что и произведения Агаты Кристи о маразматичке мисс Марпл: где появляется старушенция — там происходит убийство. У Честертона гениальный сыщик, который поразительно часто оказывается там, где кого-то убили или совершили иное преступление, — это маленький толстенький католический священник Браун. Читаются рассказы с интересом, но, по-моему, до уровня рассказов о Шерлоке Холмсе не дотягивают. Во-первых, главный герой Честертона явно проигрывает знаменитому сыщику с Бейкер-стрит — он просто образцовый антигерой. А во-вторых, и это более существенно, почти все рассказы начинаются как самостоятельные произведения ничем не связанные друг с другом и с главным героем, и лишь в ходе повествования — иногда даже ближе к концу (!) - появляется отец Браун и раскрывает очередное преступление. Прямо скажем, такой прием быстро приедается
Эно Рауд. "Новые приключения Муфты, Полботинка и Моховой Бороды"
Продолжение приключений трех странных друзей получилось невеселое. В первой части книги — похищение Моховой Бороды, во второй — еще более жуткое похищение Муфты, которого чуть не убили и не съели волки. Странно, что Эно Рауда заклинило на этой тематике. Вторая часть может шокировать маленьких читателей не только описанием похищения — все повествование смерть буквально витает над накситраллями — сказочка несколько напоминает какой-нибудь ужастик типа "Техасской резни бензопилой", адаптированный для младшего школьного возраста.
Туве Янссон. "Муми-тролль и комета" (1946, перевод В.Смирнова)
Эта классическая сказка финской писательницы — вторая из серии про мумми-троллей - отличная книжка для школьников младшего возраста. История насыщена приключениями и до самого конца держит читателя в напряжении: что все-таки случится, если приближающаяся к Земле комета упадет на долину муми-троллей ?
Туве Янссон. "Шляпа волшебника (1949, перевод В.А.Смирнова)
Замечательная сказка (и не только для детей младшего школьного возраста - как написано в аннотации) в великолепном переводе В.Смирнова. Взрослым книгу можно прочесть только ради знакомства с переводом — В.Смирнов так удачно создал необычный язык для персонажей сказки — Тофслы и Вифслы ("Молокосла! Вкусла!"), что его с полным правом можно считать соавтором данного произведения.
Артур Кларк. "Конец детства" (1953)
Книга — ярчайший пример философской фантастики. Повесть о смысле существования всего человечества. По Кларку Бог определил землянам ужасную и странную участь.
Леонид Андреев. "Дневник Сатаны" (1919, неоконченный роман), рассказ "Он" (1913)
Леонид Андреев — популярный русский писатель начала 20 века, который был основательно забыт в сталинское время, и не сказать, чтобы о нем сильно вспоминали после смерти Великого кормчего, хотя его тексты и стали доступны советскому читателю. Между тем, Андреев — это писатель от Бога, уровня Антона Чехова и Максима Горького.
Чтобы в этом убедиться достаточно прочесть рассказ "Он" — по теме это произведение не имеет ничего общего с Чеховым или Горьким — скорее уж тут чувствуется влияние Эдгара Алана По, но как шедевр русской словесности он вполне сопоставим с работами названных мной классиков русской литературы. Роман "Дневник Сатаны" мне понравился меньше. Идея великолепна, пишет Андреев замечательно, но сюжет слишком примитивен для такой идеи и при чтении постоянно возникают вопросы относительно поступков главного героя — Сатаны. Странный он какой-то.... И прост как три рубля.... Вероятно, Михаил Булгаков под влиянием этого произведения начал разрабатывать свою дьявольскую тему, но в итоге его потянуло совсем в иную степь.
Эдгар Аллан По. Рассказы: "Убийство на улице Морг" (1841), "Тайна Мари Роже" (1842), "Падение дома Ашеров", "Похищенное письмо" (1845), "Золотой жук".
"Убийство на улице Морг" считается первым детективным произведением в истории литературы. В нем сыщик—любитель Огюст Дюпен раскрыл убийство двух женщин — загадочным преступником оказался маньяк-орангутан. Трудно сказать, что натолкнуло По на идею использовать именно этот вид обезьяны в роли страшного убийцы, но вряд ли эта затея стала удачной — орангутаны вообще-то мирные животные.
"Тайна Мари Роже" — помесь детективного рассказа, криминальной хроники и теоретической работы по криминалистике. В итоге получился тяжеловесный текст, который так и не дал ответа на главную загадку совершенного преступления: кто же все-таки оказался убийцей Мари?
"Падение дома Ашеров" — странный готический рассказ годный лишь для тягомотного заторможенного фильма ужасов без какого-либо смысла. "Похищенное письмо" — третий и последний детективный рассказ По, где появляется Огюст Дюпен. На этот раз он ищет похищенное письмо. "Золотой жук" — тоже в своем роде детектив, в котором один "ботаник" разгадывает загадку нахождения пиратского клада.
Сегодня рассказы Эдгара Аллана По воспринимаются вполне обыденно, но в момент своего появления они были безусловно новаторскими произведениями.
Александр Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (1941-1945)
Эта классическая поэма конечно не про Василия Теркина - выдуманного Твардовским персонажа - она о русском (не советском!) солдате на войне, о его военной жизни, его печалях и радостях, подвигах, ранениях, кружащей над ним смерти, фронтовом товариществе, думах солдата о родном крае и близких, патриотизме. А вот чего нет в поэме так это "великого полководца товарища Сталина", Гитлера, бездарных и выдающихся командующих, великих битв и жутких военных преступлений, партии, СМЕРШа, загрядотрядов и, как ни странно, - ненависти к немцам. Поэма написана в позитивном ключе, без какого-либо натурализма и по настроению напоминает более поздний кинофильм Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "катюша".
Виктор Пелевин. Ранние рассказы: "Жизнь и приключения сарая Номер XII" (1991) - 4, "СССР Тайшоу Чжуань" (1991), "Спи" (1991), "Вести из Непала" (1991), "Девятый сон Веры Павловны" (1991), "Синий фонарь" (1991), "Мардонги" (1991), "День бульдозериста" (1991), "Онтология детства" (1991), "Встроенный напоминатель" (1991), "Миттельшпиль" (1991), "Тарзанка" (1994).
Из этих рассказов я бы отметил первый — о "жизни и приключениях сарая", который на самом деле, конечно же, не о деревянной постройке, а о человеке, который мечтал в молодости о чем-то высоком, а потом перестал мечтать и стал такой же как все. Человек в этом рассказе весьма убедительно изображен Пелевиным в образе деревянного сарая - сюжет оригинален и весьма душещипателен. Все остальные рассказы не менее оригинальны, чем первый, но не более того. Впрочем, отмечу еще и последний - более поздний рассказ "Тарзанка" — помимо необычной идеи в нем есть и смысл. Во всех остальных пелевинских рассказах оригинальная идея подавляет все остальное.
Виктор Пелевин. Ранние рассказы: "Хрустальный мир" (1991), "Проблема верволка в Средней полосе" (1991), "Происхождение видов" (1993), "Бубен Верхнего Мира" (1993), "Ухряб" (1991), "Иван Кублаханов" (1994), "Оружие возмездия" 1990), "Музыка со столба" (1991), "Водонапорная башня" (1996), "Луноход" (1991), "Откровение Крегера" (1991), "Реконструктор" (1990), "Зигмунд в кафе" (1993)
В этом сборнике несколько рассказов — настоящие шедевры. Я бы выделил четыре рассказа: "Хрустальный мир", "Проблема верволка в Средней полосе", "Происхождение видов" и "Бубен Верхнего мира". "Хрустальный мир" — пелевинский взгляд на ключевой эпизод Октябрьской революции. В нем два юнкера-наркомана охраняют подступы к Смольному вечером 24 октября 1917 года — именно в то время, когда Ленин рвался туда, чтобы руководить переворотом. Более антинаркотического произведения я вообще не встречал - рассказ обязательно нужно включить в перечень произведений, с которыми должен ознакомиться каждый школьник старших классов. "Происхождение видов" тоже школьникам будет полезен — в нем рассказывается как Дарвин во время путешествия на корабле "Бигль" обдумывал свою теорию эволюции — очень может быть, что Пелевин и прав в своих подозрениях насчет Дарвина...
Михаил Зощенко. "Сентиментальные повести" (1929)
Несмотря на название, эти повести отнюдь не сентиментальные: первые четыре из них - это по настоящему мрачные произведения о маленьких людях, которые не нашли себя в этой жизни. И, несмотря на легко узнаваемый стиль Зощенко, местами напоминающий его знаменитые юмористические рассказы, все эти повести являются их полной противоположностью — таких печальных произведений надо еще поискать. "Один день Ивана Денисовича" по сравнению с ними - образец оптимизма. Вторая часть сборника повеселее. "О чем пел соловей" — это уже стопроцентный Зощенко, высмеивающий наших глупых, меркантильных и безнравственных соседей (к счастью, только их, а не нас любимых). Почти каждая повесть начинается с авторского вступления, в котором Зощенко как бы извиняется перед читателями за мелочность темы, за маленьких героев и еще много за что — все это написано с юмором и если бы повести не были изданы в одном сборнике, эти вступления выглядели бы вполне уместно. Но когда такой прием повторяется из повести в повесть, то к концу книги затянутое авторское вступление уже выглядит явным перебором.
Николай Гоголь. "Ревизор" и "Женитьба"
Пьеса "Ревизор" — смешная и язвительнейшая сатира на никчемное и бесстыжее российское чиновничество, всегда готовое пресмыкаться перед теми, кого оно считает выше себя (сатира настолько неприкрытая, что потребовалось разрешение императора, чтобы пьесу разрешили ставить в театре). Вот и сейчас мы живем в чистом виде по Гоголю — показывают нам современного Хлестакова (только постарше) по ящику и уверяют всех, что это и есть наш царь-батюшка — и ведь верят! И пресмыкаются перед ним современные городничие, судьи и почтмейстеры так, как героям Гоголя и не снилось !
Более ранняя пьеса "Женитьба" — это смешная зарисовка из жизни мелких людей в маленьких чинах. В отличие от "Ревизора", особого высмеивания общественных язв здесь нет, хотя возможно, что Гоголь и хотел поглумиться над институтом брака, который в дворянской среде превратился в брак исключительно по расчету. Тем ни менее, на первый план выходит издевательство автора над убогими и никчемными людишками, которыми переполнена вся пьеса — положительных героев в ней нет вовсе. По сюжету пьесы несколько дворян сватаются к засидевшейся в девках дочери купца, при этом все действующие лица настолько примитивны, что эта процедура превращается в чистый водевиль.